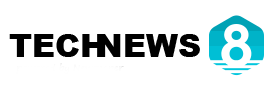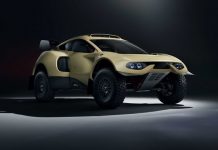6 декабря, 20:43 Цей матеріал також доступний українською 
HayDmitriy/Depositphotos
Светлана Панина Психолог, гештальт-терапевт
Если какие-то чувства подвергаются постоянной цензуре, остальные тоже рано или поздно «застревают» в этом фильтре
Говорят, что если отношения выдержали ремонт, переезд или маленького ребенка, они крепкие. Так и есть. Однажды у нас с мужем на протяжении всего одного года случились ремонт, переезд и маленький ребенок. И если ремонт до ребенка и младенчество младшей дочери наши отношения пошатали, но пощадили, то переезд их доконал. Пришлось развестись. Правда, там были и другие события — до ремонта был еще один переезд, а до ребенка мы потеряли нерожденного ребенка. И, возможно, наши отношения истощило то, что мы про эту потерю не говорили. То есть, это была беда. Но о ней нельзя было разговаривать. Врачи говорили, что это не беда. Как будто то, что желанный ребенок ушел на 7 неделе от зачатия, — это не трагедия. Да, это часто случается, да потерять малыша на большом сроке — это ужас ужасный. Но даже о таких трагедиях не принято было говорить. И уж тем более как-то себя жалеть.
Я прошла курс болезненной и, как потом оказалось, бессмысленной терапии, с уколами, гормонами, антибиотиками, от которых теряла аппетит и вес, чтобы «предотвратить» возможные потери в будущем. Сейчас понимаю, что воспринимала эту терапию как наказание и искупление. Мне казалось, что я что-то неправильно сделала. Не надо было поднимать старшую дочку на руки, когда она проснулась в ту ночь. Не надо было так нервно реагировать на хамство водителя в маршрутке. Не надо было, наверное, есть ту шаурму, когда я еще не знала, что беременна. А может быть, это правда, что излучение мониторов компьютера приводит к осложнениям беременности, и не надо было мне работать?
Родителям нашим мы вообще ничего не говорили. Эту историю надо было как можно быстрее запихнуть в черный ящик и похоронить в архивах. Первый раз поговорить о том, что случилось я смогла с подругой, у которой тоже была перинатальная потеря через полгода после нашей. Мы обнялись и плакали. Но мне и в голову не пришло, что муж переживает эту потерю так же остро, как я. Он не плакал. Ему не делали уколов. Он много работал. Он беспокоился обо мне и моем здоровье, но никогда не вспоминал о нашей утрате при мне. И я не вспоминала при нем.
У нас не было языка, чтобы об этом разговаривать
Нам было, чем заняться. Ремонт. Новая, незапланированная, но желанная беременность и рождение второй дочки. Переезд. И через полгода мы расстались. А еще через полгода развелись.
Все это время я училась разговаривать. О нет, я прекрасно умела болтать. Обо всем, что происходит вокруг, о других людях, о цифрах и графиках. Я не умела говорить о чувствах. Я не знала, что о них уместно говорить, если это не чувство радости, любви или восхищения. Да, у меня был на тот момент диплом психолога. Но психолог же говорит о чувствах других людей, не так ли? Я уже в тот год обучалась психотерапии. Одновременно как клиент училась говорить о себе. Моя психотерапевт помнит, как я улыбалась и похихикивала, рассказывая страшные вещи. О себе, конечно. Про других я могла рассказывать с сочувствием. Помню, она обратила мое внимание на то, как я рассказываю.
Я блистала остроумием, высмеивая себя. И наслаждалась тем, что иногда получалось вызвать улыбку на лице терапевта, которую я очень уважала за ум, тонкое чувство юмора и еще что-то, чему я не могла найти названия. Но мне хотелось бы это развить в себе.
Однажды она не улыбнулась ни разу за целый час. Хотя я старалась и была в ударе. Со стороны выглядело, как будто я легко справляюсь и даже нахожу удовольствие в трудностях. Ее не удалось обмануть. И я поняла, что это за свойство, которому так хотелось соответствовать. Честность. Я врала. Я отчаянно врала самой себе, окружающим, терапевту своими интонациями, видом, шутками, что со мной все ок. Это была единственная разрешенная стратегия для меня в любой сложной ситуации. Говорить можно только о хорошем. Если трудно — пойди, реши проблему, потом приходи и доложи об успехах. Конечно, в моей семье нельзя было плакать. «Выйди в другую комнату, приведи себя в порядок и возвращайся только когда будешь улыбаться». Даже если мои слезы были вызваны несправедливым наказанием или тем, что родители отменили обещание, данное накануне, даже если было больно и плохо.
Слезы, боль, страх, злость, стыд — все нужно было прятать. От самых близких. Чтобы их не расстраивать. Так мы и жили. Я прятала все, кроме любви и радости и от своих родителей, и от мужа, и от психотерапевта. Но вот ведь какая штука. Если какие-то чувства подвергаются постоянной цензуре, остальные тоже рано или поздно «застревают» в этом фильтре. И из отношений исчезают не только печаль, страх и отвращение, но и любовь, и радость. Остается чистый и голый функционал. Функция дочери, функция жены, функция матери.
Вместо дочерних чувств во всем их диапазоне от обиды до обожания, вместо женских чувств от желания уничтожить до страстного желания быть вместе навсегда, вместо материнских чувств от «дети, как я от вас устала» до «люблю вас до луны и обратно» остается программа робота. Наверное, можно жить в одном доме с роботом, но любить робота, как человека — это уже несколько странно. Я была роботом со встроенным блоком шуток. Этот блок меня вытащил из бездны. Потому что чувство юмора все-таки лучше, чем чувство безысходности. «Я выживу, а потом посмеюсь над этим», — думала я, пока хватало сил. И сил хватало, потому что я выжила. Пока не случилось то, над чем ни в одной реальности невозможно смеяться. Пока мы не потеряли этого крошечного, еще даже не похожего на человечка, ребенка.
Мы выжили. А он нет. Чувство юмора — это не то чувство, что сопровождает потерю. Мы с мужем знатные юмористы. Мы встретились, подшучивая друг над другом, и жили, издеваясь над собственными трудностями. Обо всем, о чем можно было шутить, мы шутили. Но утрата и боль — у нас не было языка, чтобы об этом разговаривать. Если об этом нельзя шутить, это не обсуждается совсем.
Когда в доме подвисает молчание на какую-то тему, оно покрывает мелкой радиоактивной пылью все. Отношения становятся ядовитыми. Хорошо, что мужу хватило слабоумия и отваги начать разрушать эти токсичные отношения. Я до сих пор готова его за это убить. Но он живой, потому что и я выжила. Невыносимая боль требовала от меня выпилиться из реальности. Но она же заставила меня ощущать, что я живая, раз мне больно. Я не робот! Значит, можно искать помощи и учиться говорить о том, над чем нельзя шутить.
Читайте также: Светлана Ройз Тема, о которой не говорят
Ужасно, что мне, как и многим кроме меня, пришлось делать это через боль. Но что поделать. Те, кого учили уважать все чувства и говорить о них через любовь, встречаются нечасто. И они вряд ли постоянные гости психотерапевтов. Я хочу, чтобы люди учились говорить о чувствах, пока они еще ощущают себя живыми. Чтобы учили этому своих детей. Чтобы, выговорившись, они могли слушать других людей. Говорят, словами горю не поможешь. Врут! Слова, которые произносит горюющий вслух, о своем горе, о своей потере, не вернут утрату. Но они вернут жизнь тому, кто горюет. Вернут его голос, его чувствительность, его способность жить дальше с памятью в душе.
Когда человек выражает свои чувства другому небезразличному и внимательному человеку, это лечит. Когда я стала говорить с бывшим мужем о своих чувствах, я начинала с боли, тоски, стыда, ярости, а он начал слушать. А иногда слушать приходилось мне. И я даже не догадывалась, сколько боли, стыда, ярости и тоски жило у него в душе. И оказалось, что некоторые события мы проживали с одинаковой болью. Каждый в своем углу. Потому что у нас не было языка для несчастья. Пять языков любви, говорите? Да хоть двадцать пять. Есть ли хотя бы один язык, который позволит людям обсуждать другие чувства? Это самый нужный язык, чтобы оставаться живым в живых отношениях. Я буду учить его всю жизнь. Ведь только в живых отношениях есть место любви.
Текст публикуется с разрешения автора
Оригинал
Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения НВ
Больше блогов здесь
Depositphotos
Теги: Трагедия Общение Советы психолога